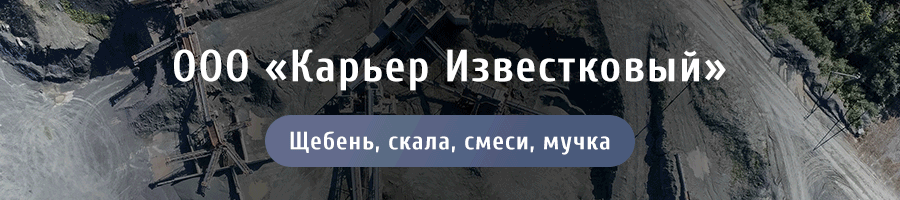Новости
Спустя шесть лет МАК опубликовал отчет о причинах катастрофы Суперджета в Шереметьево в марте 2019 года

Фото — Авиаторщина
МАК возложил ответственность за крушение SSJ100 в мае 2019 года на командира воздушного судна.
05.05.2019, в 18:30 местного времени (в 15:30 UTC) в аэропорту Шереметьево произошло авиационное происшествие с самолетом RRJ-95B RA-89098, принадлежащим ПАО «Аэрофлот». По имеющейся информации, на борту находились 5 членов экипажа и 73 пассажира. В результате авиационного происшествия погибло 40 пассажиров и 1 член экипажа. Воздушное судно частично сгорело.
Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти 40 из 41 погибшего явилось воздействие открытого пламени, сопровождающееся ожогами верхних дыхательных путей в результате вдыхания горячего воздуха.
Пожар возник после третьего приземления ВС на ВПП из-за разрушения крыльевых топливных баков и разлива топлива. Разлив топлива происходил как из-за разрушений в местах крепления гидроцилиндров выпуска/уборки шасси, так и в других частях крыла. В результате второго приземления конструкция шасси была повреждена, т. е. при третьем приземлении работала за пределами ожидаемых условий эксплуатации и не могла должным образом воспринимать посадочные нагрузки.
Причиной авиационного происшествия с самолетом RRJ-95B RA-89098 явились некоординированные управляющие действия КВС на этапе выравнивания при посадке и при повторных отделениях самолета от ВПП («козлении»), выразившиеся в неоднократном несоразмерном знакопеременном перемещении ручки управления по тангажу с фиксацией в крайних положениях. Указанные управляющие действия привели к трем «грубым» приземлениям самолета, вследствие чего при втором и третьем приземлениях величина поглощенной энергии значительно превышала максимальные значения, для которых проводилась оценка прочности конструкции при сертификации типа воздушного судна, что привело к разрушению силовых элементов планера, топливных баков с разлитием топлива и возникновению пожара.
Способствующими факторами явились:
- неэффективность утвержденных программ подготовки летного состава на RRJ-95 для действий в особой (сложной) ситуации при переходе СДУ в режим «DIRECT MODE» и, как следствие, недостаточные знания и навыки членов экипажа для пилотирования самолета в этом режиме. Программы подготовки не учитывали специфики конкретной особой ситуации, хотя и соответствовали минимальным требованиям, установленным ФАП;
- неэффективность СУБП авиакомпании в части контроля формирования у пилотов устойчивых навыков пилотирования, что не позволило выявить и устранить характерные систематические ошибки КВС при управлении БРУ в продольном канале на этапе посадки, в том числе связанные с отдачей БРУ «от себя» за нейтральное положение (на пикирование) в процессе выравнивания;
- невыявление отклонений (факторов опасности) в технике пилотирования экипажами авиакомпании при предыдущих случаях перехода СДУ в режим «DIRECT MODE» и, как следствие, непринятие профилактических мер;
- нечеткость формулировок эксплуатационной документации самолета в части особенностей пилотирования на этапе выравнивания и при исправлении отклонений на посадке (парировании повторных отделений самолета от ВПП);
- невыполнение экипажем требований ФАП и РПП при подготовке и выполнении полета при наличии прогнозируемой и фактической грозовой деятельности, а также при возможности наблюдения этих зон на экране метеолокатора, что привело к поражению самолета атмосферным электричеством, перезагрузке блоков концентраторов данных и переходу СДУ в режим «DIRECT MODE». По результатам сертификации переход СДУ в режим «DIRECT MODE» был оценен как «сложная ситуация», возникновение в полете «сложной ситуации» в результате воздействия молнии или статического электричества не противоречит применимым сертификационным требованиям;
- значительный рост психоэмоционального напряжения КВС вследствие поражения самолета атмосферным электричеством и неспособность в течение длительного времени обеспечить приемлемую точность пилотирования при работе СДУ в режиме «DIRECT MODE», что привело к формированию психологической доминанты на выполнение «срочной» посадки с неготовностью к уходу на второй круг;
- личностные психологические особенности членов экипажа, определяющие их поведение в стрессовой ситуации, а также недостаточная подготовка КВС в области человеческого фактора и методов контроля угроз и ошибок, что не позволило объективно оценить свое психоэмоциональное состояние и способность управлять самолетом, выбрать оптимальную стратегию для продолжения полета, а также организовать необходимое взаимодействие и управление ресурсами в экипаже;
- неспособность КВС обеспечить балансировку самолета в продольном канале в ручном режиме, в том числе и при снижении по глиссаде;
- неправильная оценка экипажем ситуации при срабатывании прогностической сигнализации о сдвиге ветра (GO AROUND, W/S AHEAD) при полете по глиссаде и, как следствие, невыполнение ухода на второй круг, что привело к попаданию в микропорыв ветра после начала выравнивания и повлияло на траекторию движения ВС. Документация разработчика ВС и авиакомпании позволяет экипажу игнорировать срабатывание указанной сигнализации, если он убедился в «отсутствии угрозы сдвига ветра», однако соответствующих четких критериев «отсутствия угрозы» эксплуатационная документация и РПП не содержат;
- целенаправленное «подныривание» КВС под глиссаду на заключительном этапе захода на посадку (после прохода ВПР);
- отличие положений РПП авиакомпании в части действий экипажа при срабатывании сигнализации о предельном отклонении от равносигнальной зоны глиссады от аналогичных положений документации разработчика самолета. При соблюдении положений документации разработчика самолета экипажу было необходимо выполнить уход на второй круг;
- необоснованное расширение авиакомпанией критериев «стабилизированности» захода на посадку в части допустимого диапазона отклонений от заданной скорости захода, что при фактической приборной скорости полета более чем на 15 kt превышающей заданную величину и работе СДУ в режиме «DIRECT MODE» привело к неожиданной для КВС повышенной реакции самолета на отклонение БРУ в продольном канале;
- невыполнение экипажем стандартной эксплуатационной процедуры по ручному выпуску воздушных тормозов при приземлении ВС. Нечеткость формулировок эксплуатационной документации и применяемые на ВС алгоритмы контроля посадочной конфигурации, требующие подготовить воздушные тормоза к автоматическому выпуску в том числе при работе СДУ в режиме «DIRECT MODE», при котором автоматический выпуск невозможен, снижают ситуационную осведомленность экипажа в указанном аспекте;
- включение реверса после первого отделения от ВПП, что сделало невозможным последующий уход на второй круг.
Наиболее вероятно, увеличению тяжести последствий способствовали:
· работающие двигатели самолета, которые экипажем своевременно выключены не были;
· большое количество вытекавшего из обеих консолей крыла топлива, которое попадало в район среза выходных сопел двигателей непосредственно под воздействие их реактивных струй;
· невозможность использовать для эвакуации оба задних выхода;
· проявление эффекта «общей вспышки» в задней части пассажирского салона;
· толчея и паника среди пассажиров;
· попытки ряда пассажиров забрать свою ручную кладь при эвакуации;
· ошибка старшего бортпроводника при работе с системой громкой связи и, как следствие, снижение ситуационной осведомленности пассажиров о порядке эвакуации.
Моделирование развития пожара, проведенное ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, показало, что ошибочные действия бортпроводника по открытию задней левой двери в фактически сложившихся условиях не привели к росту значений (величин) поражающих факторов пожара и не повлияли на тяжесть последствий авиационного происшествия.
Более подробно в окончательном отчете МАК.
Новости по теме:
Аварийная посадка грузового Ан-12 в Новом Уренгое
Комментарии
Комментариев по этой новости еще нет, будьте первыми!
Авторизация